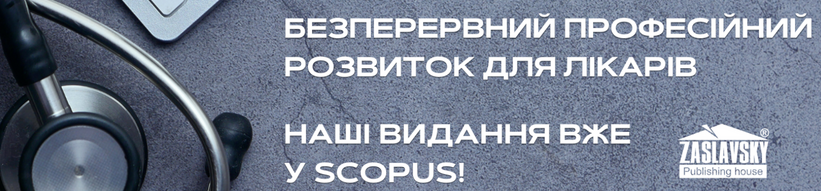Журнал «Практическая онкология» Том 3, №1, 2020
Вернуться к номеру
Расширение возможностей инициальной гормонотерапии рака молочной железы
Авторы: Татьяна Чистик
Рубрики: Онкология
Разделы: Справочник специалиста
Версия для печати
В последние годы в связи с большим вниманием к органосохраняющим методам хирургического вмешательства, а также из-за появления дополнительных данных о механизмах эстрогензависимости рака молочной железы (РМЖ) и гормонального канцерогенеза все чаще проводится инициальная (неоадъювантная) гормонотерапия РМЖ, прежде всего с применением антиэстрогенов и ингибиторов ароматазы.
15 июля 2020 года в Киеве состоялась научно-практическая конференция с онлайн-трансляцией «UkraineOncoGlobal-2020», в рамках которой были рассмотрены актуальные вопросы диагностики и консервативного лечения лимфом и нейроэндокринных опухолей желудочно-кишечного тракта, рака щитовидной железы, а также современные возможности неоадъювантной гормонотерапии рака молочной железы.
С докладом «Расширение возможностей инициальной гормонотерапии рака молочной железы» выступил заведующий хирургическим отделением Киевского городского онкологического центра Николай Федорович Аникусько.
Синонимами термина «инициальная гормонотерапия» являются «неоадъювантная гормонотерапия» и «неоадъювантная эндокринотерапия» (НЭТ). НЭТ применяется для перевода неоперабельной опухоли в операбельную, выполнения органосохраняющих операций и улучшения косметического эффекта. Она необходима для определения пациенток низкого риска рецидива на основании патологического ответа и индекса пролиферации (рСR, RCBO-1, Ki-67), пациенток высокого риска рецидива и оценки внутриопухолевых молекулярных маркеров.
Внутриопухолевые молекулярные маркеры — важные прогностические факторы, влияющие на все аспекты ведения пациенток с РМЖ. К ним относятся экспрессия белков эстрогеновых и прогестероновых рецепторов, определяемых иммуногистохимическим способом, амплификация генов HER2/neu FISH, экспрессия генов Oncotype Dx, Mammaprint, BCI, PAM 50, а также профиль мутаций — ESP1m, PIK3CA, FoundationnOne и CDx.
Далее докладчик рассказал о важности достижения полного патоморфологического ответа (рСR) при назначении неоадъювантной химиотерапии (НХТ), что существенно улучшает отдаленные результаты по сравнению с историческим контролем. Использование НХТ оценивалось во многих рандомизированных клинических исследованиях. В проекте NSABP B-18 1523 женщины с операбельным РМЖ были рандомизированы на получение 4 циклов химиотерапии по схеме АС (доксорубицин + циклофосфамид) до или после хирургического вмешательства. Полный патоморфологический ответ был зарегистрирован у 13 % пациенток, у которых впоследствии наблюдалось существенное улучшение исхода заболевания, по сравнению с более крупной по числу группой больных, не достигших рСR. Лимфатические узлы без метастазов идентифицированы у 58 % пациенток, получавших неоадъювантную терапию, в сравнении с 42 % женщин, подвергавшихся изначально хирургическому вмешательству. Более высокая частота органосохраняющей хирургии наблюдалась у пациенток, получавших неоадъювантную терапию, — 68 против 60 % соответственно. На основании этого авторы пришли к выводу, что НХТ безопасна при операбельном РМЖ, а достижение рСR ассоциируется с благоприятным исходом заболевания.
В исследовании NSABP B-27 (Bear H. et al., 2006) c участием пациенток, которые были рандомизированы на 3 группы, было показано, что рCR коррелирует с результатами лечения. На первом этапе все больные получили 4 курса химиотерапии по схеме АС. Затем первая группа оперировалась без последующего адъювантного лечения; вторая группа получала еще 4 курса неоадъювантной терапии доцетакселом по 100 мг/м2 1 раз в 3 недели и затем оперировалась; третья группа подвергалась оперативному лечению после 4 курсов АС, но получала 4 курса доцетаксела адъювантно. Было показано, что добавление доцетаксела в режиме неоадъювантной химиотерапии приводит к достоверному увеличению числа полных патоморфологических ответов в два раза — 26,1 % в сравнении с группой АС (12,8 %) и группой АС и адъювантной терапии доцетакселом (14,4 %). Также установлена корреляция улучшения безрецидивной (БРВ) и общей выживаемости (ОВ) и показателей рСR.
В крупном метаанализе (Cortazar P. et al., 2012) с участием 12 993 леченых пациенток, рандомизированных в 12 испытаниях НХТ с длительным периодом наблюдения, оценивались БРВ и OВ. Вновь было продемонстрировано улучшение отдельных результатов у больных с рCR в сравнении с остальными (без рСR). Более того, размах ассоциации между рСR и БРВ был большим у больных с агрессивными подтипами РМЖ — HR+/HER-2– и HR+/HER-2+ против HR–/HER-2+ и HR–/HER-2–.
Таким образом, данные исследования показали, что при ХТ улучшение безрецидивной и общей выживаемости коррелирует с показателем рСR. Однако при гормонопозитивном РМЖ корреляция между рСR и БРВ, ОВ не проявляется. При этом у пациенток с низким уровнем рецидива, определяемым по молекулярным сигнатурам, степень достижения рСR является наименьшей (Chano J., 2008).
Инициальная гормонотерапия (эндокринотерапия) имеет такие же подходы и цели, как и неоадъювантная химиотерапия. На фоне применения НЭТ процент достигших рCR значимо ниже, чем на ХТ, а процент выживаемости коррелирует с клиническим ответом. Для определения предиктивного ответа на терапию необходимо раннее исследование индекса пролиферации Ki-67 (Sheri A. et al., 2012).
Предикторная роль Ki-67 при назначении гормональной терапи была показана в исследовании IMPACT. В нем сравнивалась эффективность неоадъювантной терапии анастрозолом, тамоксифеном и комбинацией «анастрозол + тамоксифен». Было показано, что анастрозол демонстрирует преимущество перед тамоксифеном относительно супрессии Ki-67 и выживаемости без прогрессирования. Таким образом, оценка Ki-67 после 2-недельного приема анастрозола позволяет прогнозировать эффективность терапии — чем быстрее снижается Ki-67, тем лучше ответ на терапию и ниже риск прогрессирования.
В исследовании neoMONARCH с включением 220 постменопаузальных женщин с гормонзависимым HR+, HER-2 РМЖ I (≥ 1 см), II, IIIA, IIIB стадии изучалось прогностическое значение Ki-67 при назначении неоадъювантной эндокринной терапии. Все пациентки были рандомизированы на 3 группы: приема анастрозола, анастрозола + абемациклиба и абемациклиба. Было выявлено, что 2-недельный курс назначения комбинации анастрозола и абемациклиба значимо увеличивает эффективность лечения, при этом Ki < 2,7 %.
Затем докладчик рассказал об алгоритме проведения трайлов по изучению НЭТ, отметив, что это адаптивные исследования с определением специфических биомаркеров, изучением индекса PEPI, уровня супрессии Ki-67 и генетических механизмов резистентности. В клинической практике НЭТ позволяет отобрать пациенток для обширного лечения с добавлением комбинации ХТ и гормонотерапии, определяет длительность лечения, предикторы выгоды и резистентности, а также оценивает ответ на терапию.
В историческом плане применение гормонотерапии связывают с появлением тамоксифена, неоадъювантная терапия которым применялась как альтернатива хирургическим операциям у пациенток старше 70 лет. Тамоксифен увеличивал риск местного рецидива, но давал сходную картину по количеству органосохраняющих операций и общей выживаемости. В сравнении с тамоксифеном блокаторы ароматазы проявляли более высокий уровень ответа, рассматриваясь как опция для пациенток с ранним РМЖ и короткой ожидаемой продолжительностью жизни.
В обзоре Charehbili (2014) сравнивалась эффективность неоадъювантной химио- и гормонотерапии. Только в 2 из 5 рандомизированных клинических исследований было показано преимущество ХТ в ответе на терапию. В исследовании Semiglazov (2007) полный патоморфологический ответ достигался в 2 раза чаще при ХТ в сравнении с гормонотерапией (6 и 3 % соответственно), тогда как уровень органосохраняющих операций был в 1,5 раза выше при НЭТ. У пациенток с выраженными гормональными рецепторами уровень общего ответа был более высок при гормонотерапии (70 vs 60 %), а уровень органосохраняющих операций — в 2 раза выше, чем при ХТ (43 vs 24 %).
В работе J. Dixon et al. (2009) показано, что эффективность НЭТ зависит от длительности лечения. В группе пациенток, получающих летрозол (n = 182), уменьшение размера опухоли коррелировало с длительностью терапии: 0–3 месяца — на 52 %, 6–12 месяцев — на 37 %, 12–24 месяца — на 33 %. В исследовании G. Allevi et al. (2013) длительность НЭТ влияла на уровень полного патоморфологического ответа, составив 2, 8 и 17 % через 4, 8 и 12 месяцев лечения соответственно.
Следующая часть доклада была посвящена дополнительным факторам, используемым для отбора пациенток на неоадъювантную гормонотерапию — диагностическую трепанобиопсию и определение геномных биомаркеров. В исследовании TransNeos (Iwata H., 2019) приняли участие 295 пациенток, которым выполнялся тест Oncotype Dx, после чего больных рандомизировали на группы RS — низкого (< 18), умеренного (18–30) и высокого риска (≥ 31). Было обнаружено, что степень достижения полного ответа на НЭТ выше в группе низкого риска рецидива. Аналогичные результаты лечения были получены и в исследовании BluePrint/MammaPrint (Withwort et al., 2017).
Таким образом, в клинической практике НЭТ позволяет адаптировать конкретные задачи лечения, оценить чувствительность и резистентность опухоли, а также регулировать дальнейшую терапию на основании уровня ответа.
В исследовании, проведенном Dowsett et al. (2007), было показано, что Ki-67 является фармакодинамическим маркером для лечения больных в неоадъювантном режиме. В нем приняли участие 330 пациенток, которые в течение двух недель получали ингибиторы ароматазы либо тамоксифен. Было продемонстрировано большее снижение Ki-67 в группе ингибитора ароматазы — 76 % случаев, в группе тамоксифена — 60 %. При длительной терапии эти показатели составили 82 и 62 % соответственно. В дальнейшем в зависимости от уровня снижения Ki-67 все пациентки были распределены на 3 группы, которые имели различный прогноз выживаемости и нуждались в разных методах терапии.
В исследовании POETIC (Robertson, 2017) пациентки с гормонзависимым инвазивным РМЖ (n = 3913) были рандомизированы на две группы: первая получала летрозол за 2 недели до операции, вторая была прооперирована без лечения. Было выявлено, что при снижении в биоптате Ki-67 до 10 % и менее 5-летний риск рецидива составляет 4,5 %, если же уровень Ki-67 оставался высоким после 2-недельного приема летрозола, 5-летний риск рецидива соответствовал 19,6 %.
В 2008 году M.J. Ellis et al. провели рандомизированные исследования II фазы неоадъювантной эндокринотерапии тамоксифеном против летрозола в течение 4 месяцев и оценили постлечебные патоморфологические особенности опухоли, создав индекс PEPI. Индекс PEPI, или предоперационный эндокринный прогностический индекс, учитывает уровень Ki-67, размер опухоли, статус лимфатических узлов, а также степень выраженности эстрогеновых рецепторов, что позволяет отобрать пациенток на неоадъювантную гормонотерапию.
На сегодняшний день новым подходом в эндокринотерапии РМЖ являются так называемые аспекты геномных инструментов — 4-генная предиктивная модель (Turnbull et al., 2015), согласно которой до лечения необходимо определение экспрессии 2 генов — ILGST иммунного сигнала и NGFRAP1 апоптоза, после терапии — экспрессии генов ASPM и MCM4, отвечающих за апоптоз. Эти гены коррелируют со степенью ответа на неоадъювантную эндокринотерапию и позволяют прогнозировать эффективность лечения.
В 2019 году V. Bruno опубликовал работу, в которой предложил применение SETER/PR в качестве геномного предиктора чувствительности к эндокринотерапии. Данное исследование позволило на основе генетических сигнатур разделить пациентов на 2 группы — группу лиц с очень хорошим ответом на ЭТ, которые могут получать только гормональные препараты, и группу тех, кто ответит хуже, а значит, нуждается в применении эндокринной системной терапии либо комбинации гормональных препаратов с палбоциклибом. Также важно, что SETER/PR позволяет выявлять уже мутировавшие формы рецепторов на основе SR1 — мутировавшего гена рецепторного статуса. Кроме того, удобство метода заключается в том, что измерение первичной опухоли проводится в парафиновом блоке без необходимости выделения RNA.
Новой стратегией в неоадъювантной эндокринотерапии является возможность комбинирования гормональных препаратов с ингибиторами циклинзависимых киназ 4 и 6. Ее эффективность подтверждена в исследовании neoMONARCH, в котором было выявлено, что комбинация анастрозола и абемациклиба увеличивает ответ на терапию на 30–40 %.
В исследовании NeoPalAna (Ма et al., 2017) с участием 50 пациенток, рандомизированных на 2 группы — получения анастрозола и анастрозола + палбоциклиба, было показано, что добавление ингибитора циклинзависимых киназ повышает эффективность лечения. В группе, получавшей анастрозол + палбоциклиб, полный ответ на терапию составил 87 %, что значительно превосходило группу анастрозола — 26 %.
В исследовании PALLET (Johnston et al., 2019) с включением 239 постменопаузальных пациенток с ER+HER2-негативной либо инвазивной опухолью более 2 см, комбинация «летрозол + палбоциклиб» была эффективнее монотерапии этими препаратами. Через 2 недели лечения в группе, получавшей летрозол + палбоциклиб, снижение Ki-67 было в 2 раза большим, чем в группах сравнения (2,2 vs 4,1).
Далее Николай Федорович подчеркнул важность назначения неоадъювантной эндокринной терапии в пременопаузе у пациенток с РМЖ, отметив, что в последние десятилетия рак молочной железы значительно «помолодел», а возраст менопаузы отодвинулся до 51,7 года. Этим объясняется увеличение количества молодых пациенток, нуждающихся в НЭТ. При этом, несмотря на значительное число неблагоприятных форм РМЖ, более чем в 60 % случаев прослеживается чувствительность гормональных рецепторов (Collins et al., 2012). В пременопаузальном периоде оптимальной неоадъювантной эндокринотерапией является применение тамоксифена 20 мг у пациенток как низкого (5 лет), так и высокого (10 лет) риска.
В американском руководстве Breast Surgeons (2019) для пациенток высокого риска прогрессирования РМЖ рекомендуется применение гормонотерапии в течение 10 лет с переходом на ингибитор ароматазы. В том случае, если лечение назначалось в пременопаузе и в процессе терапии менструации прекратились, следует продолжить лечение тамоксифеном до тех пор, пока не будет диагностирована менопауза, подтвержденная лабораторными исследованиями.
В исследованиях ABCSG-6A, ATLAS, ATTOM, –Ma-17, NSABP B-33 было установлено, что расширенная гормонотерапия тамоксифеном дает преимущества в выживаемости от 2 до 4,7 % (Mamounas E.P., 2008). В исследованиях Ma-17R, NSABP B-42, DATA, IDEAL, ABCSG-16 показано, что для ингибиторов ароматазы эти показатели ниже — 0,8–4 %. Это свидетельствует о лучшей выживаемости пациенток при применении тамоксифена.
Кроме того, в Breast Surgeons отмечается, что у пациенток детородного возраста пятилетний курс тамоксифена может оказывать негативное влияние на способность забеременеть. В этой ситуации американское руководство рекомендует принимать более короткий курс тамоксифена, особенно у пациенток низкого риска прогрессирования — от 18 месяцев до 2 лет. Также подчеркивается, что за 2–3 месяца до зачатия или попыток зачатия прием тамоксифена должен быть прекращен. В настоящее время для уточнения нюансов управления эндокринной терапией во время беременности проводится клиническое исследование POSITIVE, результаты которого позволят ответить на многие вопросы о проведении НЭТ при беременности.
В настоящее время для лечения РМЖ у женщин в пременопаузе показаны только два препарата — тамоксифен и торемифен. Торемифен (Фарестон®, «Orion Corporation», Финляндия) является производным тамоксифена, в молекулу которого внесен атом хлора, который предопределил более высокий профиль безопасности и лучшую переносимость лечения.
В 2009 году в книге V. Craig Jordan «Эндокринотерапия рака предстательной железы и рака молочной железы» торемифен (Фарестон®) одобрен для лечения распространенного РМЖ. Клинические результаты продемонстрировали терапевтическую эквивалентность 20 мг тамоксифена и 60 мг торемифена и схожесть побочных эффектов. Однако в отличие от тамоксифена, при длительном приеме которого обнаружено увеличение частоты рака эндометрия, у торемифена данный риск не обнаружен. Кроме того, сообщалось о полной перекрестной резистентности двух препаратов, подтвержденной результатами клинических исследований. Также был очерчен круг показаний для тамоксифена — от проведения химиопрофилактики до адъювантной терапии РМЖ; торемифена — для лечения гормонзависимого метастатического РМЖ в постменопаузе в качестве терапии первой линии, для профилактики и лечения дисгормональной гиперплазии молочной железы.
В 2010 году D. Jaime et al. были опубликованы результаты исследования NAFTA, в котором сравнивалась эффективность торемифена (60 мг) и тамоксифена (20 мг), назначаемых ежедневно в течение 5 лет в качестве адъювантной терапии, с включением 1813 женщин в пери- или постменопаузальном периоде с инвазивным гормон-рецептор-позитивным первичным РМЖ. Показатели 5-летней БРВ в группах тамоксифена и торемифена не имели различий и составили 91,2 %. Показатели 5-летней ОВ в группах тамоксифена и торемифена — 92,7 и 93,7 % соответственно.
В исследовании IBCSG 12–93 сравнивались 3 адъювантных режима: 4 курса химиотерапии (доксорубицин или эпирубицин + циклофосфамид) и гормонального препарата одновременно, последовательно либо в качестве монотерапии. В исследовании IBCSG Trial 14–93 сравнивали 2 режима (4 курса циклофосфамида и далее режим CMF, 3 курса) с 16-недельным перерывом между курсами и без такового. Общий анализ данных этих исследований (n = 1035) показал сходные результаты 5-летней выживаемости без признаков заболевания: 72 % для торемифена и 69 % для тамоксифена, общая выживаемость составила 85 % для торемифена и 81 % для тамоксифена. У пациенток с ЭР+ РМЖ (n = 773) на фоне торемифена 5-летняя выживаемость без признаков заболевания составила 76 % (для тамоксифена — 72 %), а 5-летняя ОВ — 90 и 86 % соответственно.
В исследовании FBCG сравнивалась терапия торемифеном (40 мг) и тамоксифеном (20 мг) в течение 3 лет у 1480 женщин с инвазивным, преимущественно ЭР+ РМЖ и поражением лимфоузлов. Результаты исследования также не выявили существенных различий в показателях общей выживаемости между двумя группами.
В 2011 году результаты этих исследований были обощены в метаанализе, включающем данные 3709 женщин с РМЖ, который не установил различий в эффективности торемифена и тамоксифена в медианах безрецидивной и общей выживаемости, что свидетельствует об одинаковой эффективности препаратов.
При изучении побочных эффектов, развивающихся вследствие применения тамоксифена и торемифена, анализ результатов исследований NAFTA, IBSCG 12–93 и IBSCG 14–93 показал, что при приеме торемифена статистически значимо реже развивались тромбоэмболические осложнения и цереброваскулярные события, в том числе инсульты.
В 2012 году было опубликовано интересное ретроспективное исследование, выполненное R. Gu et al., в котором были оценены результаты адъювантной гормонотерапии при раннем РМЖ у женщин в пременопаузе. В группах сравнения представлены результаты лечения 212 больных, получавших торемифен, и 240 — тамоксифен. При медиане наблюдения 57,3 месяца общая выживаемость составила 100 % в группе торемифена и 98,4 % — в группе тамоксифена. Безрецидивная выживаемость была статистически значимо выше в группе торемифена — 97,2 и 90,4 % соответственно.
В другом ретроспективном исследовании (Qin T., Yuan Z.Y. et al., 2013), которое включало 1847 пременопаузальных женщин, получивших хирургическое лечение с дальнейшей терапией торемифеном или тамоксифеном, не получено статистических отличий в результатах лечения. Все показатели выживаемости были идентичными в группах торемифена и тамоксифена: безрецидивная выживаемость (10,3 мес. в обеих группах), 5-летняя безрецидивная (87 vs 85 % соответственно) и общая выживаемость (94,3 vs 93,5 % соответственно).
Таким образом, значимость неоадъювантной эндокринотерапии в клинической практике является несомненной: НЭТ уменьшает распространенность опухоли в груди, увеличивает возможность выполнения органосохраняющих операций, обладает эффективностью, аналогичной эффективности ХТ, для селективных больных, позволяет отобрать пациенток, не нуждающихся в химиотерапии.