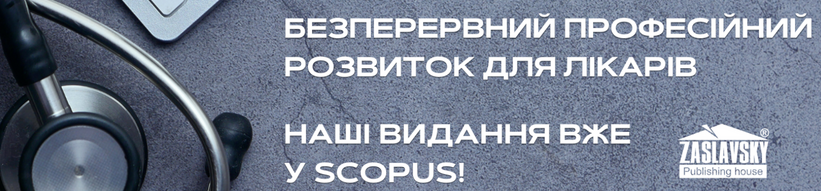Международный неврологический журнал 4 (34) 2010
Вернуться к номеру
Нейрофизиологические эффекты и типы реакций ЦНС в ответ на фармакологическое воздействие: нейропептиды
Авторы: Черний Т.В., Андронова И.А., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Неврология
Версия для печати
Представлены данные клинического, неврологического и электроэнцефалографического исследования у 58 пациентов в возрасте от 17 до 60 лет в течение 7 суток после черепно-мозговой травмы (ЧМТ) или острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК), получавших Цереброкурин, и у 56 аналогичных пациентов, получавших церебролизин. Исследования проводили до введения Цереброкурина или церебролизина и на фоне максимальной концентрации препаратов в плазме через 30 минут после введения. С помощью метода интегрального количественного анализа целостного ЭЭГ-паттерна определялись коэффициенты, отражающие соотношения спектральных мощностей всех ЭЭГ-диапазонов. Реактивность мозга оценивалась по изменению абсолютной спектральной мощности и интегральных коэффициентов в ответ на введение нейротропного препарата. Установлено, что не существует значимых различий между реакциями ЦНС в ответ на введение препарата церебролизин в суточной дозе 50 мл и препарата Цереброкурин в суточной дозе 2 мл у больных с ЧМТ или ОНМК. Выявлено, что в ответ на фармакологическое воздействие (введение Цереброкурина и церебролизина) отмечалось снижение уровня дезорганизации ЭЭГ-паттернов за счет функционального восстановления регулирующих систем мозга от стволового до коркового уровня.
Черепно-мозговая травма и мозговой инсульт, количественная ЭЭГ, реактивность ЦНС, нейропротекция, Цереброкурин.
Ишемия мозга, оказывая экстремальное воздействие на мозг, одновременно активирует генетические программы клеточной гибели (апоптоз) и репарации, которые существуют параллельно, имеют общие биохимические звенья реализации, энергозависимы и находятся в антагонистических взаимоотношениях. В итоге развивается либо гибель клетки, либо реорганизация всех субклеточных систем, межклеточных взаимоотношений с переходом нейрона на иной уровень функционирования.
Современные данные о патофизиологии ишемического и травматического повреждения мозга свидетельствуют о патогенетическом единстве механизмов клеточного повреждения при любой острой церебральной недостаточности (ОЦН), что обусловлено обязательно возникающей тканевой ишемией [1].
Классическая идеология лечения ишемии мозга, представление о так называемой ишемической полутени (пенумбре), глутаматной эксайтотоксичности и т.д. предусматривает применение первичной и вторичной нейропротекции [2]. Причем первичная нейропротекция направлена на прерывание быстрых реакций глутаматкальциевого каскада, свободнорадикальных механизмов, которая начинается с первых минут ишемии и продолжается в течение трех дней. А вторичная нейропротекция направлена на блокаду провоспалительных цитокинов, молекул клеточной адгезии, торможение прооксидантных ферментов, восстановление нейротрофики и прерывание апоптоза. Вторичная нейропротекция может быть начата через 6–12 часов после сосудистого инцидента и продолжается не менее 7 суток [2].
Однако клинические испытания, проверяющие множество потенциальных нейропротекторных веществ, дали отрицательные или разочаровывающие результаты [3–5]. Метаанализ международных исследований нейропротекции, проведенный в США, выявил два нейропротектора — церебролизин и цитиколин, которые соответствуют критериям доказательной медицины [6, 7].
Недостаточно эффективное лечение тяжелой ЧМТ, мозгового инсульта и глобальной ишемии мозга требует пересмотра стратегии нейропротекторной терапии [9]: первичная нейропротекция должна быть направлена в первую очередь на восстановление реологических свойств крови, микроциркуляции, эндотелиальной дисфункции, функционального состояния нейроглии и ГЭБ, то есть на участки белого вещества, а не серого. А после этого осуществляется вторичная нейропротекция, влияющая в основном на нейроцит [9].
В связи с накопленными данными о роли воспаления в процессе вторичного повреждения мозговой ткани при ишемии мозга, травме и кровоизлиянии актуальным является вопрос о возможных путях фармакологической коррекции этой реакции. Начиная с первых дней заболевания после формирования морфологических инфарктных изменений в веществе мозга все большее значение приобретает репаративная терапия, направленная на улучшение пластичности здоровой ткани, окружающей инфаркт мозга, активацию образования полисинаптических связей, увеличение плотности рецепторов [10].
Одной из универсальных составляющих патогенеза повреждения нервной ткани является трофическая дисрегуляция, приводящая к биохимической и функциональной дифференциации нейронов с инициированием каскада патобиохимических процессов [3, 4]. Традиционно в ангионеврологии применяется ряд препаратов, влияющих на нейропластические, нейромедиаторные, нейропротекторные, нейротрофические и интегративные процессы в мозге. Что же имеется в виду под этими терминами? Под нейропластичностью понимается процесс постоянной регенерации пораженного мозга, адаптирующий нервную систему к новым функциональным условиям. Под нейропротекцией — активизация метаболических процессов в головном мозге, противодействующих повреждающим факторам. Под нейротрофикой понимается процесс пролиферации, миграции, дифференциации нервных клеток [11].
«Вторичные» нейропротекторы, обладающие трофическими и модуляторными свойствами (нейропептиды), оказывают и регенераторнорепаративное действие, способствуя восстановлению нарушенных функций.
Н.Е. Иванова, В.С. Панунцев [10] указывают, что уровень трофического обеспечения вещества мозга влияет на механизмы некротических и репаративных процессов. Даже при сформировавшемся очаге ишемии высокий уровень трофического обеспечения способствует регрессированию неврологического дефицита [10].
Поэтому ключевым моментом в интенсивной терапии ишемии мозга, обусловленной как тяжелой ЧМТ, так и мозговым инсультом, является активация процессов репарации нервной ткани. Препараты, влияющие на процессы нейропластичности, занимают одно из ведущих мест в терапии ишемии головного мозга.
Ключевое значение в интенсивной терапии нейротрофических расстройств при острой церебральной недостаточности имеют нейропептиды [11]. Новым направлением в исследовании нейропептидов стало определение их роли в регуляции нейроапоптоза, а также их влияния на экспрессию генов раннего реагирования. Существуют факты, демонстрирующие значимость нейропептидов и ростовых факторов в нормальной и патологической деятельности мозга, которые отражают организацию поливариантной системы химической регуляции, обеспечивающей как жизнеспособность и защиту нейронов от неблагоприятных влияний, так и программируемую гибель определенной части клеточной популяции в случае повреждения мозга. Открытие нейротрофических пептидных факторов побудило к формированию новой стратегии фармакотерапии — пептидергической, или нейротрофной терапии нейродегенеративных патологий [11]. В настоящее время разработан ряд препаратов, успешно применяемых в терапии большого спектра неврологических расстройств. Наибольший успех здесь выпал на долю Цереброкурина, актовегина, кортексина, семакса, церебролизина, которые уже в течение последнего десятка лет успешно используются в интенсивной терапии неврологических заболеваний [12–17].
Одним из наиболее перспективных препаратов нейротрофического ряда является Цереброкурин, который содержит свободные аминокислоты, нейропептиды и низкомолекулярные продукты контролируемого протеолиза низкомолекулярных белков и пептидов эмбрионов крупного рогатого скота. Механизм действия и точки приложения Цереброкурина принципиально отличаются от других препаратов нейропептидной природы, в частности от церебролизина. Цереброкурин содержит пептиды, несущие в себе программу анализа состояния и строительства ЦНС. Таким образом, конечный эффект различается изза качественно отличного механизма действия [16].
Защитные эффекты Цереброкурина на ткань мозга включают его оптимизирующее действие на энергетический метаболизм мозга и гомеостаз кальция, стимуляцию внутриклеточного синтеза белка, замедление процессов глутаматкальциевого каскада и перекисного окисления липидов. Вместе с тем препарат обладает выраженными нейротрофическими эффектами. В исследованиях, проведенных в последние годы, установлена способность Цереброкурина повышать экспрессию гена транспортера глюкозы (GLUT1) через гематоэнцефалический барьер и, таким образом, увеличивать ее транспорт к головному мозгу в условиях экспериментальной ишемии [17].
Показано также, что нейротрофические свойства Цереброкурина связаны с защитой цитоскелета нейронов вследствие ингибирования кальцийзависимых протеаз, в том числе кальпаина, и увеличения экспрессии микротубулярного кислого протеина 2 (MAP2). Наряду с этим Цереброкурин увеличивает аффинность связывания нейротрофического фактора головного мозга с его рецепторами. Влияние препарата на trkB рецепторы нейротрофинов может свидетельствовать о вовлечении его в регуляцию естественных факторов роста [11]. В экспериментальных исследованиях выявлена способность Цереброкурина предотвращать гиперактивацию микроглии и снижать продукцию ИЛ1a и других провоспалительных цитокинов, что отражает влияние препарата на выраженность местной воспалительной реакции и процессов оксидантного стресса в ишемизированной зоне мозга [11]. В настоящее время показано, что применение Цереброкурина при острой церебральной ишемии способствует лучшему выживанию нейронов в зоне ишемической полутени и торможению отсроченной гибели нейронов [16, 17]. В ряде клинических исследований была показана высокая эффективность Цереброкурина при различных патологиях ЦНС [18].
Цель исследования. Исследование эффективности применения Цереброкурина у пациентов с острой церебральной недостаточностью различного генеза с помощью метода интегрального количественного анализа ЭЭГпаттернов и изучения реактивности мозга в ответ на применение препарата. Сравнение нейрофизиологических эффектов двух нейропептидов — Цереброкурина и церебролизина [19, 20].
Материал и методы исследования
Обследованы 58 пациентов (28 женщин и 30 мужчин в возрасте от 17 до 60 лет), которые с первых суток поступления в нейрореанимационное отделение ДОКТМО получали препарат Цереброкурин в дополнение к стандартному протоколу лечения [4]. Больные были разделены на 2 группы. 1я группа состояла из 30 пациентов в острейшем восстановительном периоде после перенесенной тяжелой черепномозговой травмы (ЧМТ), 2я группа — из 28 больных с острым нарушением мозгового кровообращения по ишемическому типу (ОНМК). Больным проводились ЭЭГисследования за 0,5 часа до и через 0,5 часа после внутримышечного введения Цереброкурина в дозе 2 мл в сутки.
Обследованы 56 пациентов (28 женщин и 28 мужчин) в возрасте от 17 до 60 лет, находившихся в нейрореанимационном отделении ДОКТМО в острейшем восстановительном периоде после перенесенной тяжелой черепномозговой травмы (3я группа — 29 пациентов) и с острым нарушением мозгового кровообращения (4я группа — 27 больных). Больные получали препарат церебролизин в дополнение к стандартному протоколу лечения [4]. ЭЭГисследования проводились за 0,5 часа до введения и через 0,5 часа после внутривенного медленного введения 50 мл церебролизина. Группа больных, получавших церебролизин, была нами обследована ранее, и полученные результаты опубликованы в 2008 г. [19, 20].
В качестве контрольной группы использовали результаты ЭЭГисследования 12 соматически и неврологически здоровых добровольцев.
Оценивали клинические формы расстройств сознания, глубину коматозного состояния пациентов определяли с помощью шкалы комы Глазго (ШКГ).
Регистрация биопотенциалов мозга осуществлялась с помощью нейрофизиологического комплекса, состоящего из 8канального электроэнцефалографа фирмы Medicor, персонального компьютера IBM PC AT с аналоговоцифровым преобразователем и специальным программным обеспечением для хранения и обработки электроэнцефалограмм.
Протокол записи ЭЭГ включал регистрацию биопотенциалов головного мозга пациентов в покое с последующей ахроматической ритмической фотостимуляцией на частотах 2, 5, 10 Гц. Изучались показатели межполушарной когерентности (МПКГ, %) и абсолютной спектральной мощности (АСМ, мкВ/√Гц) для d (1–4 Гц), q (5–7 Гц), a (8–12 Гц), a1 (9–11 Гц), b1 (13–20 Гц), b2 (20–30 Гц) частотных диапазонов ЭЭГ. Для объективизации оценки ЭЭГ использован метод интегрального количественного анализа ЭЭГпаттерна с вычислением интегральных коэффициентов (ИК), позволяющих определить значимость отдельных частотных спектров ЭЭГ в формировании целостного паттерна ЭЭГ.
Реактивность мозга оценивалась по изменению абсолютной спектрмощности и интегральных коэффициентов с учетом особенностей МПКГ на основании классификации типов реакций ЦНС на фармакологическое воздействие. Все полученные данные обрабатывались с использованием методов математической статистики с применением корреляционного анализа.
Анализ полученных результатов и их обсуждение
При поступлении в отделение выраженный неврологический дефицит (у пациентов с ОНМК — 6–12 баллов по шкале комы Глазго, глубокое оглушение — сопор — кома I, у больных с ЧМТ — 3–7 баллов по ШКГ, кома I–II) предопределял резкую дезорганизацию ЭЭГпаттерна. При визуальной оценке во всех четырех группах превалировали ЭЭГкривые IV–V типа по классификации Жирмунской — Лосева с преобладанием D и qактивности (табл. 1).
-2010/77/1.png)
Были изучены типы реакции ЦНС в ответ на фармакологическое воздействие — введение Цереброкурина и церебролизина, что дало возможность количественно оценить увеличение или уменьшение дезорганизации ЭЭГпаттерна и определить уровень нейрофизиологического воздействия препаратов на мозг (кора — подкорка, кора — кора).
C помощью классификации типов реакций ЦНС у пациентов 1–4й групп были зафиксированы значимые изменения количественных и интегральных показателей ЭЭГ в ответ на фармакологическое воздействие Цереброкурина и церебролизина (табл. 2).
-2010/77/2.png)
Статистически значимых различий (критерий c2) по типу реакций ЦНС при сравнении 1й и 3й, 2й и 4й групп выявлено не было (табл. 2).
У пациентов четырех групп было зафиксировано небольшое количество реакций I типа — отсутствие достоверных изменений показателей абсолютной спектральной мощности и интегральных коэффициентов: от 3,3 % (1я группа) до 7,4 % (4я группа) (табл. 2). Подобные реакции были зарегистрированы чаще асимметрично, в правом полушарии.
Снижение уровня дезорганизации ЭЭГпаттерна (табл. 2) чаще наблюдалось в 1й (70 % всех изменений ЭЭГ) и 3й (62,1 % всех изменений ЭЭГ) группах у пациентов с ЧМТ. Среди них преобладали реакции перераспределения мощности III 2б подгруппы (ПГ) (1я группа — 30 %, 3я группа — 25,9 %), для которых типичны частотные перестройки на электроэнцефалограмме — увеличение aмощности за счет синхронной редукции высокочастотного бета2 и патологического дельтаритма с умеренным снижением значений 1го ((d + q + b1)/(a + b2)) интегрального коэффициента (1й ИК).
У пациентов с ОНМК снижение дезорганизации ЭЭГпаттернов отмечалось только при реакциях II типа (51,8 % всех изменений ЭЭГ во 2й группе и 59,2 % — в 4й группе). Они характеризовались уменьшением (p < 0,05) суммарной мощности (СМ) за счет угнетения медленноволновых d и qритмов, с умеренной редукцией aактивности, с тенденцией к снижению уровней 1го ИК (II 2а подгруппа реакций ЦНС). Или СМ уменьшалась за счет снижения АСМ всех частотных ЭЭГдиапазонов с максимальным угнетением b2активности, с отсутствием значимых изменений значений 1го ИК (II 2б ПГ). Такие реакции ЦНС отражали превалирование восходящих активирующих подкорковых влияний.
Из реакций, отражающих рост дезорганизации ЭЭГпаттерна, одинаково часто (7,1–13,8 %) встречались у исследуемых всех групп изменения II 1а подгруппы (табл. 2) с ростом суммарной мощности преимущественно за счет увеличения АСМ медленноволновых патологических дельта и тетадиапазонов, с умеренной активацией aритма, с обязательным увеличением уровней 1го ИК, что свидетельствует об ослаблении синхронизирующих регуляторных подкорковых влияний на кору. Только у пяти пациентов с ОНМК в ответ на введение Цереброкурина (3я группа, 12,5 % всех ЭЭГизменений) в правой гемисфере или билатерально была зафиксирована неблагоприятная реакция ЦНС с ростом дезорганизации ЭЭГпаттерна II 1б ПГ: с увеличением СМ за счет повышения АСМ дельта, тета и b2активности при стабильности уровней 1го ИК (табл. 2).
Реакции ЦНС с умеренной активацией медленных ритмов ЭЭГ за счет перераспределения мощности в пользу d и qдиапазонов при угнетении a1 (9–11 Гц) активности, с увеличением уровней 1го ИК (III 1a ПГ) определялись только у пациентов 2й (10,4 % всех ЭЭГ изменений) и 4й групп (7,4 % всех ЭЭГ изменений) — достаточно редко (табл. 2). Только у троих пациентов с ОНМК в ответ на введение Цереброкурина (3я группа, 5,3 % всех ЭЭГизменений) только в правой гемисфере была выявлена неблагоприятная реакция ЦНС с ростом дезорганизации ЭЭГпаттерна III 1б ПГ: реакция перераспределения мощности с синхронной активацией дельта и бетаритмов за счет угнетения всех частотных диапазонов aактивности при стабильности уровней 1го ИК (табл. 2).
Так называемая гипореактивная реакция ЦНС III 3б подгруппы с умеренным увеличением b2мощности за счет редукции dритма, с тенденцией к снижению 1го ИК, свидетельствующая о необходимости увеличения дозы препарата, была зафиксирована во всех группах: в 1й (15 %), во 2й (7,1 %), в 3й (17,2 %) и в 4й (16,7 %) (табл. 2).
Параметры 1го ((d + q + b1)/(a + b2)) ИК отражают соотношение нижележащих подкорковых — лимбикогиппокампальных, диэнцефальных и стволовых неспецифических регуляторных систем — и вышележащих — таламокортикальной системы, базальных отделов фронтальной коры и непосредственно корковых генераторов ЭЭГактивности в формировании целостного ЭЭГпаттерна. Увеличение уровней 1го ИК свидетельствует о функциональном росте активности на ретикулостволовом и/или лимбикогиппокампальном реципрокных уровнях неспецифических регуляторных систем головного мозга с формированием относительной недостаточности на уровне таламокортикальной системы взаимодействия с чрезмерным «растормаживанием» коры.
Снижение значений данного коэффициента свидетельствует о повышении тонуса коры и относительном уменьшении восходящих стволовых, диэнцефальных и лимбических подкорковых влияний. Об универсальности 1го интегрального коэффициента в оценке сбалансированности корковоподкорковых взаимодействий свидетельствует выраженность прямых корреляционных взаимосвязей между значениями данного ИК в проекциях базальных отделов фронтальной коры (Fp1Fp2), одного из основных неспецифических регуляторов коркового тонуса, с уровнями в проекциях стволовых (О1О2), среднемозговых (С3С4), лимбикогиппокампальных (Т3Т4) неспецифических регуляторных систем мозга у здоровых добровольцев, чьи электроэнцефалограммы укладываются в понятие «идеальная норма» ЭЭГ.
Реакции ЦНС, относящиеся к I и III 3б типам, свидетельствовали об отсутствии такого фармакологического эффекта Цереброкурина, который возможно зарегистрировать с помощью методов количественной ЭЭГ. Большое количество высоких и средних прямых ранговых корреляционных связей (ПРКС) между показателями изменений (увеличения или уменьшения) уровней 1го ИК были зарегистрированы при реакции ЦНС I типа. Обращают на себя внимание ПРКС между показателями изменений 1го ИК в лобной и центральной областях в правой и левой гемисферах, что характеризует триггерную роль восстановления сочетанности активности височных и центральных отделов как доминирующего полушария, т.е. моторноречевой зоны коры, так и контралатеральных областей недоминирующей гемисферы.
О реализации фармакологического эффекта Цереброкурина на корковом уровне свидетельствовали так называемые реакции перераспределения ЭЭГмощности III типа (рис. 1). Реже высокие, чаще средние прямые ранговые корреляционные связи между показателями роста 1го ИК (подгруппа III 1a) в передних отделах коры были обусловлены умеренным ростом дезорганизации ЭЭГкривой за счет активации корковых генераторов, не типичных для нормального функционирования головного мозга, изза гипофункции медиобазальных фронтальных регулирующих систем [11]. Ирритация коры, вызванная состоянием гипофронтальности, была типичной для реакций подгруппы III 1б. Возможно, формирование данной реакции было связано с чрезмерной активностью серотонинергической нейромедиаторной системы, морфологически доминирующей справа, проецирующейся в височноцентральных областях коры. Об этом свидетельствуют высокие ПРКС в проекциях C4, T4 и O2 между показателями снижения уровней 1го ИК и высокие обратные ранговые корреляции в проекциях Fp2 и O2, Fp2 и T4 между показателями разнонаправленных изменений уровней 1го ИК (рис. 1).
-2010/77/3.png)
Для неблагоприятных реакций ЦНС II 1a подгруппы в ответ на введение Цереброкурина, характеризующихся ростом дезорганизации ЭЭГпаттерна и увеличением уровней 1го ИК, были типичными высокие прямые ранговые корреляционные связи (высокие ПРКС) между показателями изменения (роста или тенденций к росту) 1го ИК (рис. 2) в проекциях стволовых (О1; О2) и лимбикогиппокампальных (Т3; Т4) регулирующих систем, стволовых (О1; О2) отделов и правополушарной фронтальной (Fp2) областью, то есть «этажей» регуляторной системы головного мозга, в норме имеющих реципрокные отношения. Одновременная активность ретикулостволовых и лимбикогиппокампальных систем приводит к дезинтеграции восходящих активирующих подкорковых влияний, «растормаживанию» коры, повышению возбудимости корковых генераторов ЭЭГ. Поэтому такая реакция ЦНС, зафиксированная хотя бы на уровне одного полушария после фармаковоздействия, является показанием к снижению дозы Цереброкурина.
Выявленные только в ответ на введение Цереброкурина у пяти пациентов с ОНМК реакции II 1б ПГ (рис. 2) отражали особенности функционирования правой гемисферы и связанных с нею диэнцефальных подкорковых образований. Синхронность в росте или тенденциях к росту значений 1го ИК в правой гемисфере в ответ на введение Цереброкурина (высокие ПРКС в проекциях Fp2 и C4, C4 и T4, T4 и O2) свидетельствовала о снятии активирующих и регулирующих влияний диэнцефальных структур как на кору, так и на гиппокампальнолимбическую и ретикулостволовую системы, преимущественно орального отдела ствола (среднего мозга) (высокие ПРКС в проекциях T3 и T4, Fp1 и Fp2), структуры мозга, с общей дезинтеграцией подкорковых влияний, «растормаживанием» коры.
-2010/77/4.png)
Для реакций II 2a подгруппы, характеризующихся снижением уровня дезорганизации ЭЭГпаттерна, типичными были высокие ПРКС между показателями изменения 1го ИК (рис. 2) в пределах одного полушария: справа — во всех исследуемых зонах, слева — в лобных, височных и центральных отделах. Такая синхронность в снижении или тенденциях к снижению значений 1го ИМ в правой гемисфере в ответ на введение Цереброкурина была обусловлена возрастанием уровня активности диэнцефальноправополушарных подкорковокорковых взаимодействий [11]. Данную благоприятную реакцию ЦНС, свидетельствующую об адекватности и эффективности вводимой дозы препарата, обеспечивала активация Цереброкурином энергопродуцирующей и белоксинтезирующей функции нервных клеток с повышением активности синаптического аппарата нейронов диэнцефального уровня, таламогипоталамической области мозга.
Выводы
1. Было установлено, что не существует значимых различий между реакциями ЦНС в ответ на введение препарата Цереброкурин в суточной дозе 2 мл и препарата церебролизин в суточной дозе 50 мл у больных с ЧМТ или ОНМК.
2. Различные пути введения препаратов — внутримышечный для Цереброкурина и внутривенный для церебролизина — не влияли на характер фармакореакций ЦНС у больных с ЧМТ или ОНМК.
3. При введении нейропептидов — Цереброкурина в суточной дозе 2 мл или церебролизина в суточной дозе 50 мл — у пациентов с ОЦН различного генеза в первые трое суток после ЧМТ или ОНМК преобладали благоприятные реакции ЦНС — более 50 % всех изменений ЭЭГ — со снижением уровня дезорганизации ЭЭГпаттернов за счет функционального восстановления регулирующих систем мозга от стволового до коркового уровня.
4. Максимальный ЭЭГэффект после применения Цереброкурина и церебролизина был зафиксирован на том уровне регуляторных мозговых систем, который изначально отличался наиболее выраженной степенью дисфункции.
1. Bramlett H.M., Dietrich W.D. Патофизиология ишемического и травматического поражения мозга: сходства и различия // Медицина неотложных состояний. — 2006. — № 4(5). — С. 32-36; № 5(6). — С. 36-43.